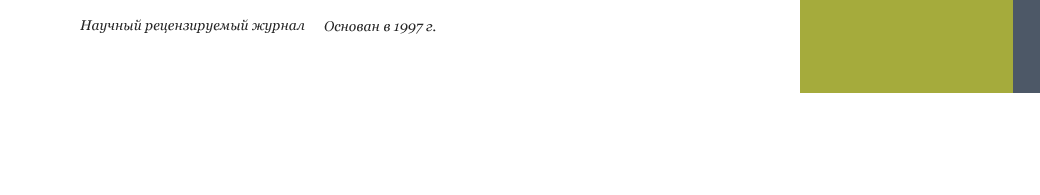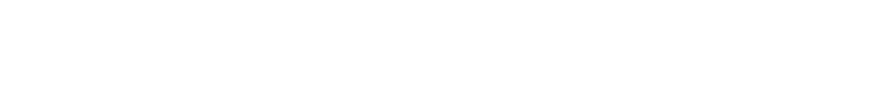Но спор с обоими досель мой жребий тайный…
А.К.Толстой
Творческое наследие профессора Александра Александровича Любищева (1890-1972) включает работы в разных областях биологии, истории науки и культуры, философии, комментарии к прочитанным статьям и книгам, колоссальный эпистолярий — переписку со многими выдающимися деятелями науки и культуры.
В апреле 2000 г. в Ульяновске, где ученый прожил последние, пожалуй, наиболее плодотворные 20 лет своей жизни, состоялись 12-е Любищевские чтения. Этой же весной в Санкт-Петербурге были опубликованы две его книги: «Линии Демокрита и Платона в истории науки и культуры» и сборник «Наука и религия», куда вошли и диалоги с друзьями. Обе книги вышли под редакцией доктора физико-математических наук Р.Г.Баранцева, который систематизировал архив Любищева; плодотворно исследует и анализирует его наследие.
Физик, академик И.Е.Тамм, который был знаком с Любищевым с начала 1920-х годов, со времен Таврического университета в Крыму, называл его научные письма непревзойденным образцом эпистолярного жанра.
Эмбриолог П.Г.Светлов, самый близкий друг Любищева, писал в канун его 70-летия: «Ты ведь занимаешь совершенно особое место в нашей научной общественности… как основатель совершенно нового направления в систематике, знаток и пропагандист математических методов в биологии, лидер оппозиции казенщине в философии».
В чем же истоки привлекательности наследия Любищева, его творческого и просто обиходного (бытового) поведения? Первую интересную и провидческую попытку разобраться в них сделал Даниил Гранин в документально-художественной повести «Эта странная жизнь». Она вышла в 1974 г., когда о многом можно было лишь упомянуть или до лучших времен и вовсе умолчать. Но главное, Гранин «поднял шлагбаум» и передал ощущение духовного облика, сопоставимого с готическим собором, который находится в процессе созидания, привлекает необычной гармонией пространственных форм. Их контуры снизу трудно ухватить поверхностным взглядом, но глубокий замысел очевиден. Самого замысла Гранин тогда почти не касался — он избрал секущей плоскостью повествования стиль, ритм, драматизм странной жизни Любищева. Некоторые, впервые узнав из повести об ученом, неосторожно приняли его удивительную систему учета и планирования времени за главное. Однако система была лишь подмостками к неустанному духовному восхождению к цели, поставленной в молодости.
Диалог как стиль в науке и жизни
Н.Берберова в автобиографии «Курсив мой» говорит о персональной символике, о важности распознать свои личные мифы, создающие внутреннюю структуру личности и помогающие устоять перед ударами судьбы. Любищев в 1952 г. в небольшом эссе «Основной постулат этики» сформулировал свой миф-завет жить и поступать так, чтобы способствовать победе Духа над Материей. Здесь, конечно, нужны дополнения. Ведь и Дух может быть злым, фанатичным, жестоким, трансформируясь в навязчивую идею, манию, а на социальном уровне — в национальные и классовые идеологии, столь доминировавшие в ХХ веке.
Стиль творческого и жизненного поведения Любищева являл удивительную гармонию трех начал: рационального, интуитивного и эмоционального. Таких людей с библейских времен называют мудрецами. Они открыты людям и всем потокам жизни. Но и это не все. В одном из писем Любищева есть признание: «Я люблю трепаться и валять дурака». В своем генофонде он находил гены гиляризма (веселости) и оптимизма. Мудрость была и остается веселой, как сказано в притчах Соломона (8, 30, 31). И его мудрость была таковой. Она поднимала дух у отчаявшихся и раздавала щелчки критики в ответ на притязания на непогрешимость научных и философских догм. В стиле Любищева необычайно ярко воплощались свойственные ему «гены антидогматизма и интеллектуального загребенизма». Эта любищевская метафора действительно характеризует его необычный врожденный дар, о котором единодушно писали самые разные его корреспонденты. Как генетик, я могу только сравнить этот сверхредкий дар со способностью к цветному звуку, audiction coloree, свойственному ряду поэтов (Бодлер, Блок). Эта особенность заметна во многих творениях Набокова. Он же дал ее краткое выразительное описание («Дар» и «Другие берега»): розовая фланелевая буква «м», грязная, как прошлогодняя вата, буква «ы», гуттаперчевое «ч». При этом одна и та же буква «а» по-разному окрашивалась у него на разных языках. Мать Набокова тоже была одарена этой способностью, но цветовая палитра одних и тех же букв у них не совпадала!
Свой дар Любищев ценил, тренировал и развил в необычайной степени. Во-первых, он любил полемику. Во-вторых, смолоду после прочтения любой статьи или книги делал в своих дневниках их семантический и историко-культурный критический анализы. В-третьих, ему был свойствен платоновский диалогический или диалектический метод, когда в позиции оппонента выявлялись исходные постулаты, о которых он в начале диалога или не подозревал, или принимал на веру, считая логически безупречными. Любищеву нравилась аналогия из рассказа А.Франса, где дьявол заявляет, что Истина — белая, а все убеждения разных сект — только отдельные лучи спектра, составляющего единую Истину. Большинство его оппонентов старалось сохранить в чистоте свою линию спектра. Любищева, напротив, привлекали необычные, самые одиозные построения, элементы которых могли быть включены в общий синтез. Он умел каким-то непостижимым образом даже среди околонаучной сферы, граничащей с шарлатанством (алхимия, астрология, парапсихология, «восточная мудрость»), находить «весьма серьезные жемчужные зерна», которые он очищал и поднимал на рациональную высоту. Эту особенность Любищева специально отмечает в предисловии к книге «Линии Демокрита и Платона» математик и философ Ю.А.Шрейдер: «Удивительна проявленная Любищевым виртуозная способность добывания истины из плохих и пристрастно написанных книг. Она не менее удивительна, чем стойкий иммунитет к тотальному идеологическому давлению. (Я помню, как в 1980 г. аудитория научных работников в г. Обнинске была убеждена, что «Диалектика природы» Ф.Энгельса — выдающийся философский труд). То, что Любищев сумел проявить эти качества, есть поистине победа Духа над Материей».
Спор с обоими, отказ примкнуть к какому-то стану был тайным жребием Любищева. Он отнюдь не делал из него секрета, следуя словам своего любимого поэта А.К.Толстого:
Некупленный никем, под чье б ни стал б я знамя
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть
Я знамени врага отстаивал бы честь.
При этом его критический меч оставался добрым, лишенным мстительности и фанатизма, ибо чувствовалось главное — движение к истине, уважение, а не поражение оппонента.
Небольшое отвлечение. Одним из равновеликих Любищеву друзей-биологов (по интеллекту, образованности и устремлениям к высшим духовным ценностям) был Борис Сергеевич Кузин (1903-1973). Если у Любищева доминировало критическое рациональное начало с любовью к математике и статистике, то Кузина отличало глубинное имманентное влечение к художественной и иррациональной сфере, почти профессиональная погруженность в область музыки («орбита Баха») и поэзии. Он переводил с латыни Горация и Катулла, писал стихи, а его эссе с описанием случайной и прямо-таки фантастической встречи в Армении с боготворимым в то время поэтом Мандельштамом можно читать и перечитывать как прекрасный образец прозы. Чудо-встреча летом 1930 г. большого поэта и большого натуралиста оказалась в подлинном смысле слова животворно-взрывной для обоих. К Осипу Мандельштаму вдруг вернулась способность писать стихи, утраченная на ряд лет после волкодавной травли со стороны советской власти:
Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Саркастически и парадоксально мыслящий Кузин пришел к выводу, что в спорах не только не рождается истина, но чаще всего портятся дружеские отношения. Ибо два собеседника — это два по-разному настроенных инструмента, в них резонируют разные струны, и мысль воспринимается искаженной, как в диалогах дон Кихота и Санчо Пансо. Но диалоги с Любищевым были исключением. В вышедшей в середине 1999 г. в Петербурге в издательстве «Инапресс» книге воспоминаний Б.С.Кузина находим такие строки из его письма 1950 г.: «Любищев прожил у меня неделю. Оба мы остались очень довольны этим свиданием. Поговорили обо всем. Как водится, непрестанно спорили с ним и ругались. Но научные споры с ним не приводят к порче отношений. Он бесконечно добродушен и столь же объективен. С точки зрения развития критических способностей Любищев не может сравниться ни с одним из известных мне зоологов. Но чудак он первостатейный и совершенно подкупающий своей простотой и добротой. Для меня его приезд был величайшим удовольствием и настоящим отдыхом».
Мнение большинства при спорах в науке (да и не только в ней) мало заботило Любищева, ибо с большинством только тогда можно считаться, если каждый его член вырабатывает свое мнение совершенно свободно и непредвзято. А этого никогда не бывает — слишком силен идол авторитетов и давление окружающих. Любищев напоминал афоризм Оскара Уайльда: «Если со мной все соглашаются, я чувствую, что не прав».
Именно эти особенности критического разума Любищева поразили меня, когда в начале 1960-х годов я впервые познакомился с его критическими статьями о так называемой мичуринской биологии. Любищев с 1953 г. открыто выступал в защиту гонимой обскурантом Лысенко классической генетики. Но при этом он никогда не считал нужным скрывать свое несогласие с ней по ряду положений. Прежде всего, претензий на полное описание явлений наследственности и на полное описание эволюции в генетико-селекционном дарвиновском русле. Сохранение своей духовной независимости, даже если на время приходилось стать под какое-либо знамя, Любищев считал главной позицией в жизни: «Платон мне друг, но Истина дороже». Искушение корпоративной этикой, когда пристрастная ревность друзей требовала не высказывать то, что идет вразрез с интересами группы или признанных лидеров и авторитетов, было одним из самых трудных испытаний. Любищев выдержал его. В «Даре» Набоков раздумывает о несамостоятельности, «о пленении русской мысли, вечной даннице той или другой орды». Любищев сумел остаться «вне всякой орды» даже при сталинизме.
«За честь природы фехтовальщик»
Главным в творчестве Любищева были исследования и размышления, которые отражены в названии сборника его статей «Проблемы формы, эволюции и систематики живых организмов», вышедшего в 1982 г., спустя 10 лет после его кончины. Понять, какие это проблемы и почему они предстают в триаде, помогут прекрасные метафоры Мандельштама. В его творчестве мы находим необычайно глубокие синтетические прозрения на стыке науки и искусства, когда несколько фраз или поэтических строк говорят о природе больше десятков страниц научного текста. В метафорическом видении поэта, писал Мандельштам в «Разговоре о Данте», «вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана». Вот одна из его проникновенных метафор о формах в биологии: «Мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь». После этих строк нужна тишина…
Под влиянием встречи и бесед с Б.С.Кузиным у Мандельштама в начале 1930-х годов не только внезапно ожил поэтический дар, но и возник глубокий интерес к творчеству натуралистов («Ламарк, Бюффон и Линней окрасили мою зрелость») и к спорам в биологии между ламаркистами и эпигенетиками, дарвинистами и их оппонентами (Кузин и Любищев считали себя решительными антидарвинистами). В это время был создан шедевр о Ламарке:
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
Видимо, многим современным читателям эта метафора останется полностью непонятной, если они далеки от биологии и от дискуссий о путях эволюции и возникновении биологического разнообразия — то, о чем размышлял всю жизнь Любищев.
«Короткий выморочный день» — это метафора дарвиновского естественного отбора и борьбы за существование, вымирания неприспособленных. Ведь по Дарвину, все различия между нынешними и прежде жившими живыми организмами есть результат адаптации к среде в ходе непрерывного выморочно-выборочного отбора. Много званых, но мало избранных. По Дарвину следует, что форма организмов главным образом обусловлена потребностями физиологии и адаптации к среде. Сходство же или различие между организмами есть исторический результат хода отбора или, как говорят, филогении. Иными словами, степень сходства зависит от степени родства. С этим дарвиновским монизмом были несогласны зоологи-систематики Кузин и Любищев и ряд других биологов, прежде всего академик Лев Семенович Берг, выпустивший в 1922 г. книгу «Номогенез, или эволюция на основе закономерностей».
Ламарк выдвинул не только саму идею эволюции о том, что в массовом сознании ошибочно приписывается Дарвину, хотя в его книге термин эволюция даже не упоминается. В теории Дарвина не было идей о прогрессе и об уровнях организации живых организмов. У Ламарка же есть идея прогресса, когда в ходе эволюции происходит закономерное повышение уровня организации по лестнице живых существ. В его лестнице животных было 14 градаций, при этом лестница была подвижной. Ламарк, писал Мандельштам, чувствовал синкопы эволюционного ряда, «он сказал, природа вся в разломах». А если так, то возникает актуальная поныне проблема: всегда ли и когда нужно искать промежуточные формы? Или в эволюции живых форм нередки прыжки, сальтации, как синкопы в симфонии, когда одна тема вдруг резко обрывается и на смену вступает совершенно новая.
Любищев отстаивал тезис, что приведение
разнообразия живых организмов в систему возможно и без оглядки на их происхождение и ход эволюции, аналогично тому, как располагаются химические элементы в периодической системе элементов Менделеева. В этом ключе Любищев рассматривал концепцию гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. А сам Вавилов в письме к Л.С.Бергу указал на сходство его умонастроения с номогенезом. Наиболее близко к номогенетическим принципам подходит современная классификация вирусов. В ее основе лежит набор структурных признаков: тип нуклеиновой кислоты (двунитчатая или однонитчатая ДНК, двунитчатая или однонитчатая РНК, в последнем случае — плюс или минус (в смысле кодирования) нить, конфигурация нуклеиновой кислоты (кольцевая или линейная), морфология и тип симметрии вироида, наличие оболочки. При этом оказывается, что существуют закономерные » гомологические ряды» сходных по морфологии и свойствам вирусов, инфицирующих организмы на каждой ступени их эволюции, от бактерий до высших позвоночных. Как будто происходит воплощение, развертывание (один из смыслов термина эволюция) потенциального многообразия форм).
Последователи Любищева эволюционисты С.В.Мейен и Ю.В.Чайковский стали разрабатывать теорию закономерного (номогенетического) разнообразия живых форм, что получило название диатропика. Мейен ввел два продуктивных понятия: мерон как класс частей и рефрен как упорядоченная изменчивость однотипных меронов в разных таксонах. Любищев полагал, что форма организмов строится по определенным гармоническим, геометрическим или эстетическим принципам. Организмы активны, они способны находить применение своим формам. Полезность той или иной особенности морфологии вовсе не может служить доводом, что оно возникло ради утилитарных целей.
Если прибегнуть вновь к понятной метафоре, то нередко в природе действует принцип «слоненка Киплинга». Хобот у слоненка возник как наказание за его любопытство, желание узнать, что же ест крокодил на обед. Но возникшему усилиями крокодила неэстетичному хоботу слоненок быстро нашел хорошее утилитарное применение (срывать ветки с деревьев, обливаться водой и т.д.).
В 1960 г. Любищев писал П.Г.Светлову: «Сейчас я потратил много времени и труда на знакомство с Галилеем и Коперником, с Ньютоном я и раньше был знаком. Остались еще Кеплер и Бpуно. В первой половине 1962 г. я надеюсь кончить астрономию и, может быть, теоретическую механику, потом будут физические проблемы, и в 1963 г. надеюсь приступить к биологии, что займет, конечно, 2-3 года, а затем 2-3 года должно занять значение философии в этике, эстетике, религии, социологии и политике». В такие глубины уводила поставленная еще в молодости задача — обосновать и найти общие принципы и законы, управляющие биологическим разнообразием. Любищев успел написать серьезное философское и историко-научное введение к своим поискам, что составило книгу «Линия Платона и Демокрита в истории науки и культуры».
Живя в СССР в то время, когда понятие идеализм соотносилось с классовым врагом и где безоговорочная, как заклятие, приверженность материализму в его туманной диалектической форме (а на практике — грубо механистической) было условием работы в науке, Любищев открыто относил себя к идеализму, к линии Платона — Аристотеля. В самом общем виде эта линия связана с представлением, что в основе мироздания лежат идеи гармонии, а творчество понимается как воплощение идеи в материи. Идеалистическое мировоззрение, по словам Любищева из его письма 1923 г. к Л.С.Бергу, «оставляет принципиально непредвиденным довольно значительную область и допускает предвидимость конечных этапов или устойчивых состояний мирового процесса».
Принципиальный индетерминизм при воплощении идеи в материю приводит к возможности творчества и свободе воли. Единство целого при свободе частей — вот что по Любищеву характерно для живой природы. К этим принципам Любищев пришел не только в ходе философских размышлений, но и в итоге многолетних занятий систематикой одной из групп жуков. Гармония и красота форм живых организмов, целесообразное поведение признаются имманентными исходными атрибутами живого, а не помаркой выморочного отбора. Так раскрывается метафора Мандельштама о фехтовальщиках за честь природы.
В работах Любищев часто упоминает о мимикрии у бабочек, об удивительных узорах их крыльев, красоте и порядке, несводимых к дарвиновской утилитарности. Эти, казалось бы, чисто биологические контроверзы переплетены с общим взглядом на жизнь и природу. Недаром же и Набоков, в созвездии своих талантов будучи и страстным натуралистом-лепидоптерологом, в своем лучшем романе «Дар», где каждый пассаж составляет гармонию с его замыслом, счел нужным тоже вступиться за честь природы. Он пишет «о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не обьяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции)… и словно задумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека».
Быстрый рост науки в конце XIX и XХ вв. сопровождался доминированием материалистической и атеистической онтологии. Энтузиазм ярых приверженцев дарвинизма, особенно в России, был в немалой степени связан с их атеизмом. Со временем выявились и огрехи такого подхода. Ибо зачастую агрессивно или с пренебрежением встречались поиск и изучение феноменов и явлений, материальная основа которых в данное время неясна. А если нет «механизма» или неясен материальный субстрат, то сторонники материалистической онтологии обычно склонны отрицать или не замечать само явление, несмотря на множество фактов. Приведу пример из области генетики. С идеей постоянства и точной локализацией генов связаны очевидные успехи хромосомной теории наследственности. Однако уже на заре становления генетики были известны случаи сверхвысокой изменчивости, нестабильности некоторых генов. Для их объяснения Барбара Мак-Клинток (нобелевский лауреат 1983 г. по биологии) выдвинула в начале 1950-х годов идею о существовании особого рода подвижных элементов, которые способны с большой частотой перемещаться в разные участки хромосом. Материальная основа прыгающих генов была в тот период неизвестной, и потому сама идея большинством считалась каким-то курьезом, досадным пятном на фоне лавины респектабельных успехов традиционных генетических работ, получивших в то же время мощное обоснование после открытия двойной спирали ДНК. В 1980-х годах «облачко» Мак-Клинтон выросло в общебиологическую проблему непостоянства генома.
Мифология и самонадеянность науки
В 1968 г. математик и философ Ю.А.Шрейдер в журнале «Новый мир» опубликовал статью «Наука — источник знаний и суеверий». Эта статья имела большой резонанс в стране, где культивировалось идолопоклонство перед наукой, где строился «научный социализм», который в противовес суевериям религии обеспечит людям счастье. Получилась трагедия, та, которую предчувствовал и по существу описал в «Бесах» Ф.Достоевский. Дело не только в том, что вместо чаямого русскими интеллигентами еще до революции союза науки и демократии возник уродливый союз науки и тоталитаризма. Корни трагедии гораздо глубже. Они связаны с тем, что в европейской науке, как она сложилась начиная с XVI-XVII вв., с лозунгом «Знание — сила» распространилось убеждение в непогрешимости науки как единственного и надежного источника истины. Под названием сциентизм эта вера весьма распространена ныне в американском научном сообществе (например, вышедшая в 1999 г. книга математика Нормана Левита «Прометей демонизируемый»). Споры и размышления на эту тему в эпоху генной инженерии вдруг из чисто академических перешли в прикладные сферы и стали затрагивать почти каждого.
Уже в то время, когда Шрейдер писал статью, он находился под впечатлением циркулирующих в научном сообществе по типу самиздата работ Любищева по истории и философии науки. После выхода статьи, вызвавшей большое раздражение в официальной науке, между Любищевым и Шрейдером возник оживленный обмен письмами. Отрывок из одного из них приведен ниже. Занимаясь историей и философией науки, Любищев привел много примеров, когда оправдываемый на практике тезис «знание-сила» перерастал в самонадеянность силы и порождал научные суеверия, мало отличающиеся от мифологии. Научное сообщество оказалось подверженным повторяемой из поколения в поколение своего рода духовной, трудноизлечимой болезни: современный уровень знания представлялся почти непогрешимым и законченным, а прошлое науки рассматривалось как кладбище ошибок и заблуждений: «Претензии данного этапа науки на истинность неосновательны», не уставал убеждать и демонстрировать Любищев. Эти претензии неизменно переходят в преследования тех, кто не разделяет доминирующие в данный период воззрения (или парадигму, как стали говорить позже).
Раздумывая над своими дискуссиями с коллегами и прослеживая историю идей, Любищев развил представление о двух типах убеждений в науке: убеждения разума и убеждения чувств, которые основаны на индивидуальных невербализуемых психологических установках и кажутся их обладателям рационально обоснованными. Оказывается, что сфера «убеждений чувств» составляет доминирующую роль в том, что относится к «научному». И это касается ученых самого высокого ранга. В публикуемом ниже письме к Шрейдеру Любищев показывает допустимость множества исходных познавательных установок, исходящих из разных представлений о реальности.
Гипотезы обычно выдвигаются на интуитивном, «предрассудочном» уровне и селектируют факты в свою сторону, никогда не охватывая весь имеющийся в данное время их набор. Монбланы фактов одной научной теории обычно оставляют без внимания Гималаи фактов, которые находят приют в другой теории и до поры до времени держатся в запасниках. Несовместимость гипотез не является слабостью данного периода в истории науки. Отказ от принципа их множественности ведет к окостенению доминирующей концепции, превращает ее в догму, поддерживаемую на социально-психологическом уровне теми же средствами, что и любой миф в доисторическом обществе. Такое окостенение произошло с дарвинизмом и с хромосомной теорией наследственности. Любищева считали неисправимым чудаком, когда он указывал на слабости и неполноту этих концепций. Такая самонадеянность науки присуща ей самой как социальному институту.
Вот один пример. Крупный зоолог и генетик Рихард Гольдшмит в 1940 г. выпустил в США книгу «Материальные основы эволюции», где высказал свое несогласие с основными положениями доминировавшей в тот период и по сию пору селекционной (дарвиновской) концепции эволюции. Его взгляды не только не обсуждались всерьез, но агрессивно отвергались. Спустя 42 года время Гольдшмита пришло, и его книга была переиздана в издательстве Йелльского университета, где он впервые, эмигрировав из Германии, читал свои лекции. Эволюционист-палеонтолог Стефен Гулд в предисловии приводит такое признание Гольдшмита: «Неодарвинисты реагировали яростно. В то время я считался не только сумасшедшим, но почти криминальным». Гулд цитирует свидетельство одного американского профессора биологии: «В университетских аудиториях имя Гольдшмита звучало как род биологической шутки, и мы, будучи студентами, смеялись и покорно ухмылялись, чтобы показать, что мы невиновны в такого рода невежестве и ереси». Другой профессор уже в досаде на себя вспоминал, что он в те годы просто выбросил книгу Гольдшмита, не читая, и не смог найти ее затем даже в библиотеке. Гулд в связи с этим вспоминает роман Оруэлла «1984», где сходная с Гольдшмитом фамилия врага народа Гольдштейн была объектом ежедневных «двухминуток ненависти». И это происходило не в СССР, а в самой, как говорят, демократической стране — Америке.
Любищев, который больше чем кто-либо написал критических работ против монополии Лысенко и в защиту классической генетики, видимо, был прав, когда пришел к выводу, что лысенкоизм — лишь наиболее яркий пример тех последствий, когда какая-либо одна доктрина становится догматической и поддерживается государством.
Ограниченность представлений классической генетики о наследственной изменчивости оказалась прямо связана с мощным социально-экономическим кризисом в Англии, когда в 1996 г. было принято решение забить все взрослое поголовье крупного рогатого скота. Генетики в то время не были готовы подтвердить, что фактор не ДНК-вой природы способен через пищевые добавки из голов овец вызвать передаваемую по наследству болезнь «бешеных коров», а от них — нейродегенеративное заболевание человека. Вся эта история привела к тому, что по одному из опросов университетским профессорам в Англии доверяет ныне чуть более 5% населения. А в Англии и во всей Европе возникло мощное и оправданное движение против генетически измененных продуктов.
Еще в 1949 г. Любищев с тревогой размышлял о крушении постулатов оптимистического рационализма, которые он долго разделял. Две группы тревожных симптомов, писал Любищев, «давят на меня»: а) на древе познания выросли или слишком уродливые, или слишком страшные плоды (расовая теория, фашистская евгеника с кастрацией неполноценных, запрещением смешанных браков, атомная бомба); б) разрушен постулат о полной искренности ученых, марксистская критика впервые убедительно подвергла его сомнению.
В итоге уже 50 лет назад Любищев заметил три позиции в обществе по отношению к рационализму: 1) паникерская, проклявшая разум; 2) антилиберальная, признавшая необходимым обуздать мышление и направить его по определенным безопасным каналам и 3) неонигилистическая, считающая необходимым пересмотреть все гносеологические и онтологические постулаты и использовать многое «иррациональное», рассматривая его как особую форму рационального. Любищев, будучи полон сомнений, считал все же возможным и старался «построить новую систему мышления», где наука, оставив свои самонадеянные притязания на универсальность, будет лишь достойной частью всего знания и культуры человечества.
В одном из писем к дочери Жеке (Евгении Александровне Равдель) Любищев признает, что среди его друзей и корреспондентов-интеллектуалов он в ходе дискуссии наталкивался на ту или иную цитадель в мышлении, в которую никакие рациональные аргументы не попадали. Любищев принимал за данность тягу людей, даже находящихся на высотах мысли, к авторитету, к абсолюту. Ибо это укрепляет мысль в определенных направлениях. Себя Любищев считал свободным от такого тяготения, сознавая свой жребий: «Я думаю, что в небольшом числе люди, подобные мне, необходимы, хотя в большом количестве это вещь нестерпимая». В другом месте этого же письма он касается проблемы взаимоотношения отцов и детей. «Духовная связь выше материальной. До этого, оказывается, додумались евреи. Один из здешних медицинских профессоров, которого я консультирую по вопросам статистической обработки, мне сообщил, что в Талмуде есть такое место: «Если у тебя арестованы отец и учитель, сначала освободи учителя, потом отца, так как отец тебя породил, а учитель научил мудрости». И я до сих пор по собственному опыту знаю, насколько трогательно относятся евреи к своему учителю».
Любищев заслужил бережное и трогательное отношение в памяти потомков.
Приложение. Из эпистолярного наследия А.А.Любищева
Из письма к математику и философу Ю.А.Шрейдеру.
…Я уже делал доклад о классификации мировоззрений и сейчас постараюсь вкратце изложить некоторые соображения по этому вопросу.
Рассуждения Ленина предельно просты и сводятся к следующему: 1) солипсизм, учение о том, что весь мир — мое построение, — явное сумасшествие; 2) всякий субъективный идеализм в конце концов сводится к солипсизму, то есть к сумасшествию; 3) но многие субъективные идеалисты в области науки оказываются очень дельными учеными, сажать их в сумасшедший дом недопустимо; 4) значит, в своем субъективном идеализме они лгут, выполняя волю господствующего класса, все идеалисты — классовые враги.
Так писал, кажется, Яковенко в маленькой брошюрке, изданной в Берлине по-русски в двадцатых годах (и свободно продававшейся в СССР). Мы знаем, что и работы А.А.Богданова, которые сейчас снова пользуются популярностью, и опровержение им Ленина издавались в СССР. Книга Ленина есть философско-политический донос на идеалистов, в частности на махистов, и тон книги совершенно невозможен (это даже отмечено в отзывах на книгу, приложенных ко второму и третьему изданиям сочинений Ленина).
Но не следует думать, что только Ленин так рассуждает о солипсизме. Был выдающийся английский писатель Честертон (перешедший, между прочим, в католичество) — в его романе «Жив человек» герой так «опровергает» солипсиста-профессора: он просто наводит на него пистолет. Профессор в ужасе. «Чего же вы ужасаетесь, уважаемый профессор, — говорит герой романа, — ведь, по вашему убеждению, весь мир, в том числе и я, и мой пистолет — ваше порождение. Как же может ваше порождение быть вам опасным? Прикажите исчезнуть вашему порождению, и вы будете в полной безопасности…». Профессору нечего возразить — солипсизм окончательно посрамлен.
И поразительно, что Вы, представитель математики, так точно определяющей понятия, здесь смешиваете понятия «фантазия, выдумка, ощущение». Когда субъективный идеалист говорит, что весь мир — его порождение, построение, это не значит, что он считает его произвольным построением. Надо отличать три понятия: 1) фантазия, произвольное построение; 2) галлюцинация, навязываемая Вам в силу тех или иных физиологических процессов и не отвечающая внешней реальности; 3) конструкт-критически продуманный синтез данных от наших органов чувств. Субъективные идеалисты утверждают, что внешний мир есть конструкт, а вовсе не фантазия. И Честертону профессор мог бы сказать: «Я конструирую внешний мир на основе данных мне органов чувств, и тщательное изучение показывает, что есть такие представления (галлюцинации), которым я могу не придавать значения. Но большинство моих ощущений складывается в систему принудительного характера, которую я не могу отвергнуть по своему произволу. И вот мой опыт устанавливает закономерность, что когда нажимают курок в пистолете, то из дула вылетает предмет, приводящий к разрушению предмета, находящегося на его пути».
Я не читал всех солипсистов, но читал многих, обвиняемых в солипсизме: Беркли (к сожалению, я читал его только в немецком переводе, но и там он восхитителен), Маха, Дюгема, Пирсона, Л.А.Шнейдера, А.Пуанкаре. Ни один из них существования внешнего мира не отрицает. Так какая же разница между идеалистами и материалистами? Дело в понимании реальности.
Недавно я отправил в США корректуру моей английской статьи «О философских аспектах таксономии». Я там различаю 16 критериев реальности. Разные философы считают наиболее важным критерием разные критерии «истинного существования (если хотите, я могу корректуру статьи Вам прислать, она очень четкая). Это и выражено в знаменитом противоположении: «Бытие определяет сознание» или «Сознание определяет бытие». Вдумайтесь в эти надоевшие слова. Бытие противополагается сознанию. Значит — сознание не бытие. Но то, что лишено бытия, не имеет реального существования, иначе говоря, не существует. Мы пришли к сумасшествию, горшему сумасшествия солипсистов. Наше Я, которое мы так отчетливо сознаем, есть эпифеномен, блуждающий огонек — мы не имеем реального существования.
Таким образом, нельзя говорить, что солипсисты — сумасшедшие, материалисты — здравомыслящие. И мы знаем хорошо, что все выдающиеся новаторы считались сумасшедшими, с точки зрения «нормальных» людей (вспомните Гаусса, боявшегося, что его посадят в сумасшедший дом за проверку eвклидовой геометрии). Даже в конкретных науках это справедливо: первый, кто высказал, что насекомые могут быть переносчиками инфекций, Мэсон, подвергался опасности быть посаженным в сумасшедший дом (а сейчас — какие триумфы принесло его «сумасшествие»: ликвидирован целый ряд важнейших болезней!).
Да и материализм, вообще говоря, в особенности — диалектический, внутренне противоречив. Что такое бытие, материя? Все, что существует независимо от нашего сознания. А вот, например, Ваше сознание, Юлий Анатольевич, бытие или не бытие? Оно несомненно существует вне моего сознания, так как с моим исчезновением оно может сохраниться. Значит, оно — бытие. Выходит, что собственное сознание — не бытие, а чужое — бытие?
Поистине митрофановская философия. Дверь — существительное или прилагательное. Дверь… а которая дверь? Та, которая висит: раз она приложена к своему месту, значит — прилагательное, а та, которая в чулане лежит — существительное.
Я вовсе не склонен полностью отрицать митрофановскую философию, она действительно господствует (как говорят, безграмотно «довлеет» в нашей действительности). Умный — прилагательное, то есть человек, который приложен к своему месту. А дурак — существительное. Почему в России сейчас так много дураков? Потому, что многие приложены не ко своему месту…
Сумасшествие проходит через всю науку. Раньше относились подозрительно (материалисты) к иррациональным, а особенно к мнимым или комплексным числам. Гаусс снял обвинение в сумасшествии, но сейчас говорят о «комплексном пространстве», о комплексных понятиях. Так называемое «негативное биномиальное распределение» покоится не на разложении бинома на сумму двух членов (сумма их единиц), а на их разности (разность — единица), то есть в сущности, на предположении, что могут быть события, случающиеся несколько реже, чем никогда, и однако, это разложение прекрасно используется на практике. Признание сумасшедших гипотез (вспомним Нильса Бора с его требованием «сумасшедшинки») не означает, что мир сумасшедший, а лишь то, что наш конструкт несовершенен, что надо перестраивать наш конструкт с тем, чтобы он все более был логичен, но при этом надо перестроить и всю логику. Вот такая смелость перестройки, «ревизии» и характерна для идеалистов. А материалисты думают, что мы уже знаем много истин.
Одно из положений идеалистов, которое особенно сильно подвергается нападкам материалистов, заключается в том, что по идеалистам — человек диктует законы природе (а по материалистам — только открывает их)… «Диктует» — вовсе не означает «выдумывает», а примеряет создания своего ума к явлениям природы.
В той области, которая составляет предмет моих особых привязаностей, в учении о системе, именно материалисты склонны «диктовать» природе. Они навязывают природе иерархическую систему и поэтому упорно не желают подчиняться фактам, показывающим, что иерархия вовсе не адекватна реальным явлениям. Это справедливо и в отношении классификации мировоззрений. Недавно я прочел одного нашего философа, который возмущался, что некто назвал какого-то философа одновременно субъективным и объективным идеалистом. Каждый объект может занимать только одно место в системе! Но измените систему, признайте комбинативный принцип, а не иерархию, и тогда окажется, что субъективный идеализм относится к гносеологии, а объективный — к онтологии. Есть не менее шести осей координат в классификации мировоззрений: 1) онтологическая; 2) гносеологическая; 3) биологическая; 4) этическая; 5) социологическая; 6) теологическая. И имеется достаточно свободное комбинирование антитез, хотя есть и запрещенные комбинации.
Признание внешнего мира недостаточно реальным, сомнения в его существовании не являются ложным отрицанием, и можно различить целый ряд форм солипсизма.
Онтологический — Беркли. Единственное реальное сознание — Бога (в современной философии к этому близок известный физик Шредингер, примыкающий к индийской философии), наше сознание — только осколок, частичное проявление (вроде того, как сознание лейкоцита, если бы оно существовало, было бы подчинено нашему общему сознанию).
Субъективно-психологический. Говорят, мир не погибнет после моей гибели, — неправда: мой мир родился со мной, изменяется со мной и погибнет вместе со мной. Если бы нейтрино или, скажем, радиоволны (вполне реальные вещи) обладали сознанием, они построили бы мир, совершенно не похожий на мой.
Теоретико-вероятностный — А.Пуанкаре. Я верю, что внешний мир существует, но не имею права иметь в этом абсолютную уверенность, так как многие гипотезы, которым придавали окончательную достоверность, таковой не обладают. Отрицание абсолютной достоверности — защита от догматизма, наиболее вредного для науки. В науке нет абсолютных истин (догматов), но есть постулаты, которые мы считаем бесспорными, но которые могут быть впоследствии опровергнуты.
М.Д.Голубовский, д.б.н., Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН